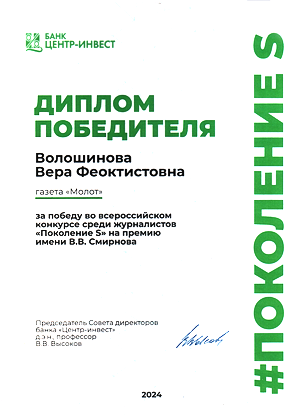Нечаянная радость

Нина Грацианская (в девичестве - Гербстман)
Заметки о пребывании Сергея Есенина в Ростове-на-Дону. Автор воспоминаний – Нина Грацианская (в девичестве — Гербстман)
Так назвал Есенина один из близких его друзей. И доподлинно нечаянной радостью возник Есенин в Ростове. Шел 1920 год. Еще жизнь шагала по штыкам окопных винтовок (напомним, Советская власть установилась в городе в январе этого года – прим. автора.). Еще немногие вещи и немногие книги проникали на Дон из Москвы – не до беллетристики было. Вот тогда чей-то дружеский вагон завез в Ростов Есенина. Вот как вспоминает о первом появлении поэта в Ростове Нина Грацианская:
— …В жаркий июльский день в книжную лавку Союза поэтов на Большой Садовой вошли два молодых незнакомца. «Есенин, Мариенгоф, — назвали они себя, — московские поэты-имажинисты».
Ни о том, ни о другом я понятия не имела.
Они были одеты изысканно до неприличия по тем временам: прекрасные пиджачные пары, галстуки-бабочки…
Кудрявый, светловолосый, синеглазый Есенин был немного выше среднего роста. Какое-то природное изящество проявлялось во всех его движениях.
Анатолий Мариенгоф, высокий, худощавый, с расчесанными на прямой пробор темными волосами, тоже был синеглаз. Черные брови особенно подчеркивали эту синеву.
Все присутствующие в книжной лавке сейчас же окружили москвичей, засыпали их вопросами, на которые те охотно отвечали. Они сообщили также, что приехали из Москвы со своим другом, тоже поэтом-имажинистом Григорием Романовичем Колобовым в целях пропаганды советской поэзии. Вот и мандат за подписью наркома просвещения Луначарского, вот афиша о вечере поэтов-имажинистов, который должен состояться в ближайшее время….
Как холодно написаны эти строки, как четко пытается их автор фиксировать только факты, а тогда, в июле 1920-го, воспринимался поэт, совершенно не похожий на прочих имажинистов, совсем по-другому:
— … Есенин, с горящими глазами случайно прирученного волка и синими, как шальные дни, золотоволосый Есенин был пьян Революцией. Она словно до крылатости напоила его творческой и детской силой…
Помню, пишет Нина Грацианская, вечер Есенина, именно его единственный вечер в Ростове. На него, прельстившись мальчишески вызывающими афишами, собралась в большинстве своем буржуазная публика, собралась поскандалить и отвести душу на заезжем поэте из Москвы. Но недолго пришлось ей свистеть. Очень скоро веселые реплики сменились внимательной тишиной. Есенин читал «Пантократора». Там, прощаясь с ладанным богом Радуницей, он говорит:
— Я кричу тебе: «К черту старое!»
Непокорный. Разбойный сын.
Есенин читал, и пригоршня правой его руки двигалась в такт читки, словно притягивая незримые вожжи.
Когда он закончил чтение, зал был его. Так в бурю захлестывает прибой, так — хочешь или нет! – встает солнце, такова была сила Есенина, потому что это были уже не стихи, а – стихия.
Вспоминает Нина Иосифовна его на и дружеских вечерах 1920-го:
Пили мало, больше пьянели стихами. Есенин читал стихи о деревне, прочел и еще не напечатанную «Исповедь хулигана». Когда закончил, поднял и посмотрел на свет последнюю рюмку:
— Водочка ты моя, рюмочка… — начал он, а в ответ на слишком ласковую тираду встал Мариенгоф и выбил рюмку из его руки. Лицо Есенина опечалилось. Все это казалось шуткой – и нежность к водке, и печаль по поводу его пролива. Еще так далеко в неизвестном поджидали его московские кабаки…
Еще раз посетил Есенин Ростов в 1922 году. Он приехал на один день из Москвы и обратно – в Москву, потом – за границу. Это была полоса творческой зрелости и успокоения, полоса «Пугачева», написанного в окружении элитных томов. Он показал как-то Грацианской рубцы на ладонях: «Это, когда читаю «Пугачева», ногти врезаются в ладонь, а я этого не замечаю…»
Упрекнула та его: мол, почему в «Пугачеве» нет ни одной женщины, — улыбнулся своей милой. Неповторимой улыбкой и сказал: «О женщине еще скажу, обещаю, обязательно скажу…»
Весь тот день он не снимал шапки с головы, объяснив это так: «Всю ночь пил. Окно в вагоне выбил, весь перепутанный».
Еще не потускнели знаменитые синие глаза, но уже горькие нотки звенели в голосе: «НЕ могу не пить. Это сильнее меня». Что-то беспомощное, детское было в нем, когда говорил: «Ну что ж, я пропаду, не беда. Мне стихи мои дороже себя…»
Простились. Знала Нина Иосифовна, что – надолго, но не думала, что – навсегда. И когда с газетной полосы глянуло на нее имя Сергея Есенина в черной рамке, было ей тяжело. Не верилось, что «нечаянной радости» больше нет… И тогда родились у нее строки, которые потом будут названы одними из самых пронзительных из всего того, что было написано в память о поэте:
Не родной и даже не любимый…
Отчего ж так душно и темно?
Отчего же так неизгладимо
Этой смерти черное крыло?
Не за то ведь, что любовью нежил,-
Много их, приученных ласкать,
И таких, кто синеглаз и нежен,
Я еще успею отыскать
Не за то, что, удалью богатый,
На дороге, наклоненной вниз,
Отзвенел он бешеным набатом
Золотом пронизанную жизнь.
Только песен буйство и смятенье,
Русских песен звонкую печаль,
Тех, что пел лазоревый Есенин,
Нам уже отныне не встречать…
Оттого так горько и пустынно,
Оттого надломлена и я:
Песнями сгорающего сына
Потеряла Родина моя.
Всех утрат огромней и тяжелей,
Всех обид ушедших солоней,
Русь моя, ужель на самом деле
Смолк навек рязанский соловей?…